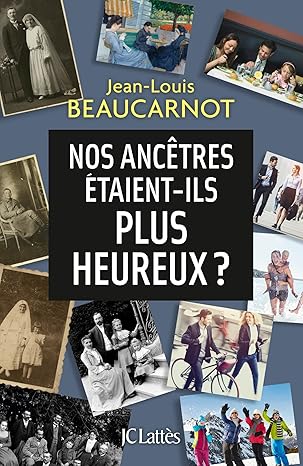БЫЛИ ЛИ НАШИ ПРЕДКИ СЧАСТЛИВЕЕ? М. М. Гершзон.
В 2017 году в свет вышла книга французского историка, генеалога Жана Луи Бокарно «Были ли наши предки счастливее?». Автор — один из самых известных во Франции генеалогов, достаточно давно занимающийся генеалогической тематикой. В аннотации к книге он даже указан как «Pape de la Genealogie». Ж.‑Л. Бокарно — автор целого ряда книг по генеалогии, передач на телевидении и радио. Его наиболее значительные работы: «Азбука генеалогии», вышедшая в 1992 году (второе издание — 1996), «Генеалогия: инструкция по использованию», «Кем были наши предки», «Дайте заговорить именам», «Как жили наши предки».
Последняя, рецензируемая здесь, книга Бокарно затрагивает нерядовые вопросы и в этом смысле более значительна по сравнению с важными, но частными вопросами генеалогии того или иного рода (семьи). Она представляет определенный интерес и для отечественного читателя, тем более что в последние годы интерес к частной истории, истории семьи, рода растет из года в год. В России выходят книги по генеалогии. Однако нет трудов авторитетных исследователей, в которых бы рассматривались глобальные вопросы, подобные тем, которые пытается разобрать в своей книге Бокарно.
Его книгу можно отнести к категории научно-популярных, она не является академическим трудом (в частности, и потому, что в ней отсутствуют ссылки на архивные документы, и использованную литературу, не указаны рецензенты и т. п.). Говоря о предках, автор прежде всего имеет в виду предков тех, кто жил на территории современной Франции. Собственно, в самом начале он задается вопросом: «счастливы ли французы?» (p. 7), говорит о том, что Франция, согласно данным ООН за 2016 год, находится на 32 месте по уровню счастья. Какой‑либо четкой нижней хронологической рамки в книге не обозначено, есть упоминание о французском средневековье. Верхней хронологической рамкой является нынешний день.
Книга разделена на десять глав. Главы, в свою очередь, разделяются на части. Автор пытается разобрать повседневную жизнь французов — предков и современников со разных точек зрения: способов коммуникации, уровня комфорта и уюта, роли общества и семьи в жизни, состояния гигиены, уровня здравоохранения, способа заработка на жизнь, роли досуга и развлечений в жизни предков и современников, роли миграции (как внутренней, так и внешней), изменения в ментальности и т. п.
Автор начинает рассмотрение повседневной жизни со сравнения того, как передвигались предки и современники. Он указывает, что передвижения предков, как правило, ограничивались размерами собственной деревни. Ныне же каждый француз, при желании, может путешествовать по всему миру. Бокарно задается вопросом, почему предки путешествовали. Он говорит о том, что в прежние времена путешествовали, главным образом, купцы и ремесленники. Именно поиск работы определял маршрут движения (p. 15). А время движения определяли сезоны. Так, ремесленники-каменщики собирались в дорогу по весне.
Позднее в поисках работы во Францию начали проникать итальянские каменщики, впоследствии польские шахтеры. Путешествие, чтобы заработать, жить и выжить — так было в прежние времена. Автор отмечает, что с XIX века начинается т. н. сезонная миграция. Иностранцы, миграция из‑за рубежа были долгое время почти неведомы жителям Франции. За исключением Парижа, куда с времен Реставрации стали прибывать польские и немецкие евреи (p. 323). После, в конце XIX века пошла волна миграции итальянцев. Затем последовали мигранты из северной Африки и из других частей бывшей французской колониальной империи. Автор, упоминая об этих волнах миграции, не пишет, изменили ли они жизнь местных жителей и, если да, то в какой степени. Говоря о том, что ранее иностранная миграция затронула в основном Париж, автор не сообщает, что в настоящее время иностранные мигранты проживают во всех крупных и средних городах, являясь в них вполне ощутимой составляющей.
Тем не менее, говоря о передвижениях французов, автор не упоминает миграционные потоки, которые были во времена колонизаций. Например, Америки. Не упоминает он и о том, что французы вынужденно «путешествовали» во время войн. Например, во время наполеоновских войн или (еще большее количество французов), во время Первой Мировой войны. Не рассматриваются и миграционные потоки, связи с иностранными государствами, влияние иностранцев на повседневную жизнь французов. Существовали ли они? В наше время, безусловно, существуют. Главным образом, посредством телевидения, кино, интернета. Если взять телевизионный аспект, то достаточно много передач на французском телевидении являются в той или иной мере калькой передач иностранных, прежде всего, американских. Рассматривая путешествия французов в средневековый период, автор говорит о внутренних границах, паспортах, отсутствии развитой сети гостиниц или постоялых домов. Не было также привычных нам сегодня средств транспорта.
Первым средством передвижения для простолюдина были… ноги (p. 24). Средняя скорость передвижения составляла 2 км/ч (15–16 км за пять с половиной — шесть часов). Передвигаться на лошади было очень дорого. И, в любом случае, с помощью лошади могло передвигаться лишь очень ограниченное количество людей. Появление дилижанса, затем железной дороги позволило перемещаться значительным группам людей гораздо быстрее и на большие расстояния. Но в любом случае, путь на дилижансе из Лиона в Париж (расстояние 500 км) в XVIII веке составлял пять с половиной дней. Нередкими были сильные опоздания. Не было развитой сети дорог — в 1789 году их было всего 30 000 км.
В настоящее время во Франции более 700 000 км дорог. Автор упоминает и о том, что отдельное время занимало и приготовление к путешествию (выбор средства передвижения и маршрута до пункта назначения). В сравнении с тем, что сейчас покупка билета посредством интернета и выбор маршрута (по крайней мере, внутри страны) занимает несколько минут. Ранее путешественника на пути подстерегали разные опасности и страхи. Нередкими были нападения на путешественников. С появлением автомобилей резко возросла смертность в результате аварий. Печальный рекорд во Франции в этом смысле был зарегистрирован в 1972 году — 18 000 смертей в год, в настоящее время 3 000 в год.
Другие барьеры для путешествия внутри страны — значительные различия языка в разных регионах. Бокарно приводит пример, что Расин (жил в середине — второй половине XVII века), оказавшись в районе Лимузена (регион на юго-западе центральной части Франции), понял, что не знает языка этого региона (p. 21). Среди препятствий к передвижениям Бокарно называет также ксенофобию. Всё это затрудняло передвижение предков на какие‑либо дальние расстояния даже внутри страны. Автор приходит к справедливому выводу, что путешествия в прошлых веках сильно отличались от передвижений в наши дни. Главное отличие: путешествия были редкими, медленными, с минимальным уровнем комфорта.
Бокарно рассказывает и о средствах коммуникации. Он задается вопросом — имели ли предки сети, были ли они организованы. В древности, по Бокарно, существовали сильно структурированные и сплоченные группы. Строго иерархичной и авторитарной была семья. С появлением школ возникали объедения детей одного класса, одной школы. Существовали объединения по профессиональному признаку, например, цехи ремесленников.
Автор рассматривает и повседневную жизнь предков с точки зрения бытовых условий и уровня комфорта. Он пишет о том, сколько человек проживало под одной крышей в начале XX века, как отапливались жилища. Так, например, в начале XX века гостиницы в целях привлечения постояльцев вывешивали объявления о том, что газ и вода есть на всех этажах (p. 50). Помимо очевидных отличий — отсутствия в домах коммуникаций — водопровода, горячей воды, электрического света, автор останавливается на различии в обстановке в доме, наличии той или иной мебели. Бокарно говорит о разности стандартов уровня комфорта в доме в середине XVIII века и в нынешнее время. Упоминает он и о том, что в настоящее время достаточно много жилищ (квартир или домов) остаются пустыми на неопределенное (длинное или короткое) время. Потому что их обитатели уходят на работу, уезжают в гости к друзьям, родственникам, в отпуск. В противовес тому, что ранее жилище никогда не оставалось без человека (т. н. хранителя очага).
Говоря о способах заработать на жизнь, прокормить семью, Бокарно отмечает, что на обсуждение денег, заработка было наложено табу и в 1492-м, и в 1900-м, остается в силе оно и сейчас (p. 204). Автор сообщает о влиянии в этом смысле крестьянских представлений: «чтобы другие не завидовали», также говорит, что определенную роль сыграли марксистские представления о том, что извлекать выгоду нехорошо. Католическая традиция также поддерживала установку, что религия — для бедных (P. 250). Этой традиции не придерживались протестанты, которые были более прагматичны.
Бокарно затрагивает вопросы спорта и досуга. Он справедливо отмечает, что досуг у предков был менее разнообразным, и говорит о том, что существенно изменились виды досуга. В выходные предки значительную часть свободного времени проводили в церкви. В конце XIX века появился кинематограф, затем телевидение. Пресса стала разнообразней, при этом она стала доступней в финансовом плане. Отмечается, что досуг изменился не только с появлением кино и телевидения, а с появлением интернета появилась, в частности возможность читать книги на компьютере не выходя из дома, отпала потребность ходить за книгами в библиотеку (p. 258). Сами бумажные книги стали гораздо более доступными со времен Гутенберга.
Автор сообщает и о праздниках, существовавших ранее. Бокарно выделяет официальные (религиозные) праздники (среди них в разных местностях были праздники местных святых), профессиональные или корпоративные праздники, домашние праздники. С этой точки зрения было бы также важно проследить, какие различия состояли в праздновании, например, свадьбы в разных регионах страны. И изменились ли обряды, сама протяженность празднования с течением времени. Автор упоминает о том, что свадьба ранее длилась несколько дней с танцами, угощениями, различными развлечениями. Однако он не уточняет, менялась ли со временем обрядовость праздника. Какое участие в праздниках принимали различные сословия или социальные группы французов? Было ли отличие в участии в праздниках у мужчин и женщин, у взрослых и детей? К каким праздникам дети приобщались со временем? Были ли какая‑то иерархия праздников? Менялось ли отношение к праздникам с течением времени? Как изменилось празднование той же Пасхи? Как готовились к ней ранее и сейчас? Какие праздники были главными ранее (в средневековье) и сейчас? Были ли предки действительно более набожными или соблюдали только внешнюю обрядовость? Сколько было праздничных (выходных) дней у среднестатистического обывателя ранее и сейчас? Насколько насыщенными были эти праздники ранее? Какую часть времени обыватель проводил в церкви, в общине, в семье? Какими были праздники по составу участников и по количеству. Без ответов на эти вопросы нельзя составить представление о масштабах праздников, которые были ранее. Если задаваться вопросом «были ли предки счастливее нас», то он интересен не только применительно к Франции. Он важен и применительно к отечественной истории.
Автор отмечает, что ранее постоялые дворы были, как правило, сугубо мужским обществом. Бокарно говорит о том, что мужчины собирались здесь для обсуждения различных вопросов. Трактиры ранее были очень шумными местами, особенно по воскресеньям, а также в дни праздников и ярмарок. Когда, в зависимости от региона, в них пили вино, сидр или пиво. Опять же интересно, в каких именно регионах пили сидр, вино или пиво. И есть ли эти различия сейчас. Употребляли ли раньше крепкие алкогольные напитки?
К сожалению, автор, рассматривая совершенно различные аспекты жизни и деятельности человека, не затрагивает вопросы еды и питания. А ведь известно, что Франция в этом смысле — одна из самых изысканных стран в мире. Собственно говоря, уровень питания, разнообразие еды в определенной степени может свидетельствовать об уровне жизни. Существуют ли различия в питании между регионами Франции, существовали ли они между разными сословиями? Стерлись ли эти различия к настоящему времени, если да, то в какой степени? Что составляло повседневную еду французского обывателя, например в XVII веке, в эпоху Ришелье и в настоящее время? Еще важный вопрос: сколько по времени составлял процесс приготовления пищи и её потребления? Где французский обыватель питался ранее — дома или за его пределами — и сейчас? Что составляло основной рацион питания в средневековье и, например, в середине XX века? Менялся ли рацион с изменением времен года? Так, в Провансе в июне проводится фестиваль молодого вина. Кто готовил в средневековье — все женщины дома, либо только старшая в семье и т. п.?
Представляется важным рассмотреть то, когда началось изменение отношения к праздникам. А также, какую роль играют, и играют ли, старинные и региональные праздники в жизни современников. И как трансформировалось со временем отношение к тем или иным религиозным праздникам. Что вкладывали предки в понятие религиозных праздников тогда и сейчас?
Автор рассматривает вопрос и с точки зрения климатических изменений. Аграрное общество, существовавшее ранее, всецело зависело от погоды. В качестве примера Бокарно приводит «великую» зиму 1709 года. В январе этого года максимальное падение температуры в Париже было до – 23 градусов. Морозы ниже – 20 градусов держались более недели (для Парижа это очень холодно). Очень сильно зависели предки и от неурожаев, заболеваний растений и прочего мора. Так, в 1861 году из Северной Америки во Францию была завезена филлоксера (вид насекомого), которая нанесла очень серьезный урон виноградарству. А в 1922 году колорадский жук нанес значительный вред урожаю картофеля (p. 326). Суровые зимы, неурожаи и следовавший за ними голод приводили к значительному росту смертности и уменьшению рождаемости. Изменились ли климатические условия проживания во Франции, например с XVII века в сравнении с настоящим временем? Сейчас во всем мире говорится о глобальном потеплении. Автор приводит следующий факт. 6 августа 1765 года в Париже был зарегистрирован температурный рекорд + 40. Этот рекорд впоследствии был побит только раз, в 1947 году, близкая температура была в 2017 году. Самый холодный день за время метеонаблюдений в Париже был 10 декабря 1879 года, тогда температура в Париже опустилась до 23,9 градусов ниже нуля, а 23 января 1795 года — температура была минус 23,5 градусов.
Автор делает попытку рассмотреть ментальность предков. Он отмечает, что предки боялись всего (p. 344): не только смерти, но и болезней, грозы, бродяг и иностранцев. Деревенские боялись города, а горожане деревни и леса. Предки боялись Бога, так же как и погоды, эпидемий, войн, голода. Последние воспринимались как наказание за грехи. Автор говорит о высокой детской смертности. Он сообщает, что почти треть детей не доживала до годовалого возраста на рубеже XVII–XVIII вв. Детская смертность пошла резко на убыль в результате вакцинации, проводившейся с 1880 года, и соблюдения норм гигиены. В былые времена бедные воспринимали несчастия, постигавшие их семьи (смерть близких, в том числе детей) как рок, фаталистически.
Подобную статистику (в частности, детскую смертность) можно проследить и по территории России, начиная со второй четверти — середины XVIII века, когда были введены метрические книги (по тем территориям, где эти источники сохранились). С еще большей точностью, начиная со второй половины XIX столетия по большинству регионов Российской Федерации.
Вызывает уважение энциклопедичность познаний автора: он цитирует классика французской литературы Расина и письма путешественников XVIII века. Но нет системности в описании образа жизни в различных регионах Франции. А ведь вероятно, что образ жизни и деятельности француза, живущего на юге Франции, отличается от француза, живущего вдали от моря, например, в районе Эльзаса и Лотарингии. Так же ритм и образ жизни у человека, постоянно живущего в крупном городе в середине XX века, и у жителя деревни. В сравнении временных периодов нет системности. Автор в одной главе сравнивает современность c XVII веком, в другой современность — с XIX столетием, в третьей современность — с началом XX века. Говоря об особенностях повседневной жизни французов в средние века, автор не всегда объясняет, о какой именно социальной категории (группе) идет речь.
Наконец, Бокарно приходит к заключению, что невозможно точно сказать, кто был счастливее — мы или наши предки.
Последняя, рецензируемая здесь, книга Бокарно затрагивает нерядовые вопросы и в этом смысле более значительна по сравнению с важными, но частными вопросами генеалогии того или иного рода (семьи). Она представляет определенный интерес и для отечественного читателя, тем более что в последние годы интерес к частной истории, истории семьи, рода растет из года в год. В России выходят книги по генеалогии. Однако нет трудов авторитетных исследователей, в которых бы рассматривались глобальные вопросы, подобные тем, которые пытается разобрать в своей книге Бокарно.
Его книгу можно отнести к категории научно-популярных, она не является академическим трудом (в частности, и потому, что в ней отсутствуют ссылки на архивные документы, и использованную литературу, не указаны рецензенты и т. п.). Говоря о предках, автор прежде всего имеет в виду предков тех, кто жил на территории современной Франции. Собственно, в самом начале он задается вопросом: «счастливы ли французы?» (p. 7), говорит о том, что Франция, согласно данным ООН за 2016 год, находится на 32 месте по уровню счастья. Какой‑либо четкой нижней хронологической рамки в книге не обозначено, есть упоминание о французском средневековье. Верхней хронологической рамкой является нынешний день.
Книга разделена на десять глав. Главы, в свою очередь, разделяются на части. Автор пытается разобрать повседневную жизнь французов — предков и современников со разных точек зрения: способов коммуникации, уровня комфорта и уюта, роли общества и семьи в жизни, состояния гигиены, уровня здравоохранения, способа заработка на жизнь, роли досуга и развлечений в жизни предков и современников, роли миграции (как внутренней, так и внешней), изменения в ментальности и т. п.
Автор начинает рассмотрение повседневной жизни со сравнения того, как передвигались предки и современники. Он указывает, что передвижения предков, как правило, ограничивались размерами собственной деревни. Ныне же каждый француз, при желании, может путешествовать по всему миру. Бокарно задается вопросом, почему предки путешествовали. Он говорит о том, что в прежние времена путешествовали, главным образом, купцы и ремесленники. Именно поиск работы определял маршрут движения (p. 15). А время движения определяли сезоны. Так, ремесленники-каменщики собирались в дорогу по весне.
Позднее в поисках работы во Францию начали проникать итальянские каменщики, впоследствии польские шахтеры. Путешествие, чтобы заработать, жить и выжить — так было в прежние времена. Автор отмечает, что с XIX века начинается т. н. сезонная миграция. Иностранцы, миграция из‑за рубежа были долгое время почти неведомы жителям Франции. За исключением Парижа, куда с времен Реставрации стали прибывать польские и немецкие евреи (p. 323). После, в конце XIX века пошла волна миграции итальянцев. Затем последовали мигранты из северной Африки и из других частей бывшей французской колониальной империи. Автор, упоминая об этих волнах миграции, не пишет, изменили ли они жизнь местных жителей и, если да, то в какой степени. Говоря о том, что ранее иностранная миграция затронула в основном Париж, автор не сообщает, что в настоящее время иностранные мигранты проживают во всех крупных и средних городах, являясь в них вполне ощутимой составляющей.
Тем не менее, говоря о передвижениях французов, автор не упоминает миграционные потоки, которые были во времена колонизаций. Например, Америки. Не упоминает он и о том, что французы вынужденно «путешествовали» во время войн. Например, во время наполеоновских войн или (еще большее количество французов), во время Первой Мировой войны. Не рассматриваются и миграционные потоки, связи с иностранными государствами, влияние иностранцев на повседневную жизнь французов. Существовали ли они? В наше время, безусловно, существуют. Главным образом, посредством телевидения, кино, интернета. Если взять телевизионный аспект, то достаточно много передач на французском телевидении являются в той или иной мере калькой передач иностранных, прежде всего, американских. Рассматривая путешествия французов в средневековый период, автор говорит о внутренних границах, паспортах, отсутствии развитой сети гостиниц или постоялых домов. Не было также привычных нам сегодня средств транспорта.
Первым средством передвижения для простолюдина были… ноги (p. 24). Средняя скорость передвижения составляла 2 км/ч (15–16 км за пять с половиной — шесть часов). Передвигаться на лошади было очень дорого. И, в любом случае, с помощью лошади могло передвигаться лишь очень ограниченное количество людей. Появление дилижанса, затем железной дороги позволило перемещаться значительным группам людей гораздо быстрее и на большие расстояния. Но в любом случае, путь на дилижансе из Лиона в Париж (расстояние 500 км) в XVIII веке составлял пять с половиной дней. Нередкими были сильные опоздания. Не было развитой сети дорог — в 1789 году их было всего 30 000 км.
В настоящее время во Франции более 700 000 км дорог. Автор упоминает и о том, что отдельное время занимало и приготовление к путешествию (выбор средства передвижения и маршрута до пункта назначения). В сравнении с тем, что сейчас покупка билета посредством интернета и выбор маршрута (по крайней мере, внутри страны) занимает несколько минут. Ранее путешественника на пути подстерегали разные опасности и страхи. Нередкими были нападения на путешественников. С появлением автомобилей резко возросла смертность в результате аварий. Печальный рекорд во Франции в этом смысле был зарегистрирован в 1972 году — 18 000 смертей в год, в настоящее время 3 000 в год.
Другие барьеры для путешествия внутри страны — значительные различия языка в разных регионах. Бокарно приводит пример, что Расин (жил в середине — второй половине XVII века), оказавшись в районе Лимузена (регион на юго-западе центральной части Франции), понял, что не знает языка этого региона (p. 21). Среди препятствий к передвижениям Бокарно называет также ксенофобию. Всё это затрудняло передвижение предков на какие‑либо дальние расстояния даже внутри страны. Автор приходит к справедливому выводу, что путешествия в прошлых веках сильно отличались от передвижений в наши дни. Главное отличие: путешествия были редкими, медленными, с минимальным уровнем комфорта.
Бокарно рассказывает и о средствах коммуникации. Он задается вопросом — имели ли предки сети, были ли они организованы. В древности, по Бокарно, существовали сильно структурированные и сплоченные группы. Строго иерархичной и авторитарной была семья. С появлением школ возникали объедения детей одного класса, одной школы. Существовали объединения по профессиональному признаку, например, цехи ремесленников.
Автор рассматривает и повседневную жизнь предков с точки зрения бытовых условий и уровня комфорта. Он пишет о том, сколько человек проживало под одной крышей в начале XX века, как отапливались жилища. Так, например, в начале XX века гостиницы в целях привлечения постояльцев вывешивали объявления о том, что газ и вода есть на всех этажах (p. 50). Помимо очевидных отличий — отсутствия в домах коммуникаций — водопровода, горячей воды, электрического света, автор останавливается на различии в обстановке в доме, наличии той или иной мебели. Бокарно говорит о разности стандартов уровня комфорта в доме в середине XVIII века и в нынешнее время. Упоминает он и о том, что в настоящее время достаточно много жилищ (квартир или домов) остаются пустыми на неопределенное (длинное или короткое) время. Потому что их обитатели уходят на работу, уезжают в гости к друзьям, родственникам, в отпуск. В противовес тому, что ранее жилище никогда не оставалось без человека (т. н. хранителя очага).
Говоря о способах заработать на жизнь, прокормить семью, Бокарно отмечает, что на обсуждение денег, заработка было наложено табу и в 1492-м, и в 1900-м, остается в силе оно и сейчас (p. 204). Автор сообщает о влиянии в этом смысле крестьянских представлений: «чтобы другие не завидовали», также говорит, что определенную роль сыграли марксистские представления о том, что извлекать выгоду нехорошо. Католическая традиция также поддерживала установку, что религия — для бедных (P. 250). Этой традиции не придерживались протестанты, которые были более прагматичны.
Бокарно затрагивает вопросы спорта и досуга. Он справедливо отмечает, что досуг у предков был менее разнообразным, и говорит о том, что существенно изменились виды досуга. В выходные предки значительную часть свободного времени проводили в церкви. В конце XIX века появился кинематограф, затем телевидение. Пресса стала разнообразней, при этом она стала доступней в финансовом плане. Отмечается, что досуг изменился не только с появлением кино и телевидения, а с появлением интернета появилась, в частности возможность читать книги на компьютере не выходя из дома, отпала потребность ходить за книгами в библиотеку (p. 258). Сами бумажные книги стали гораздо более доступными со времен Гутенберга.
Автор сообщает и о праздниках, существовавших ранее. Бокарно выделяет официальные (религиозные) праздники (среди них в разных местностях были праздники местных святых), профессиональные или корпоративные праздники, домашние праздники. С этой точки зрения было бы также важно проследить, какие различия состояли в праздновании, например, свадьбы в разных регионах страны. И изменились ли обряды, сама протяженность празднования с течением времени. Автор упоминает о том, что свадьба ранее длилась несколько дней с танцами, угощениями, различными развлечениями. Однако он не уточняет, менялась ли со временем обрядовость праздника. Какое участие в праздниках принимали различные сословия или социальные группы французов? Было ли отличие в участии в праздниках у мужчин и женщин, у взрослых и детей? К каким праздникам дети приобщались со временем? Были ли какая‑то иерархия праздников? Менялось ли отношение к праздникам с течением времени? Как изменилось празднование той же Пасхи? Как готовились к ней ранее и сейчас? Какие праздники были главными ранее (в средневековье) и сейчас? Были ли предки действительно более набожными или соблюдали только внешнюю обрядовость? Сколько было праздничных (выходных) дней у среднестатистического обывателя ранее и сейчас? Насколько насыщенными были эти праздники ранее? Какую часть времени обыватель проводил в церкви, в общине, в семье? Какими были праздники по составу участников и по количеству. Без ответов на эти вопросы нельзя составить представление о масштабах праздников, которые были ранее. Если задаваться вопросом «были ли предки счастливее нас», то он интересен не только применительно к Франции. Он важен и применительно к отечественной истории.
Автор отмечает, что ранее постоялые дворы были, как правило, сугубо мужским обществом. Бокарно говорит о том, что мужчины собирались здесь для обсуждения различных вопросов. Трактиры ранее были очень шумными местами, особенно по воскресеньям, а также в дни праздников и ярмарок. Когда, в зависимости от региона, в них пили вино, сидр или пиво. Опять же интересно, в каких именно регионах пили сидр, вино или пиво. И есть ли эти различия сейчас. Употребляли ли раньше крепкие алкогольные напитки?
К сожалению, автор, рассматривая совершенно различные аспекты жизни и деятельности человека, не затрагивает вопросы еды и питания. А ведь известно, что Франция в этом смысле — одна из самых изысканных стран в мире. Собственно говоря, уровень питания, разнообразие еды в определенной степени может свидетельствовать об уровне жизни. Существуют ли различия в питании между регионами Франции, существовали ли они между разными сословиями? Стерлись ли эти различия к настоящему времени, если да, то в какой степени? Что составляло повседневную еду французского обывателя, например в XVII веке, в эпоху Ришелье и в настоящее время? Еще важный вопрос: сколько по времени составлял процесс приготовления пищи и её потребления? Где французский обыватель питался ранее — дома или за его пределами — и сейчас? Что составляло основной рацион питания в средневековье и, например, в середине XX века? Менялся ли рацион с изменением времен года? Так, в Провансе в июне проводится фестиваль молодого вина. Кто готовил в средневековье — все женщины дома, либо только старшая в семье и т. п.?
Представляется важным рассмотреть то, когда началось изменение отношения к праздникам. А также, какую роль играют, и играют ли, старинные и региональные праздники в жизни современников. И как трансформировалось со временем отношение к тем или иным религиозным праздникам. Что вкладывали предки в понятие религиозных праздников тогда и сейчас?
Автор рассматривает вопрос и с точки зрения климатических изменений. Аграрное общество, существовавшее ранее, всецело зависело от погоды. В качестве примера Бокарно приводит «великую» зиму 1709 года. В январе этого года максимальное падение температуры в Париже было до – 23 градусов. Морозы ниже – 20 градусов держались более недели (для Парижа это очень холодно). Очень сильно зависели предки и от неурожаев, заболеваний растений и прочего мора. Так, в 1861 году из Северной Америки во Францию была завезена филлоксера (вид насекомого), которая нанесла очень серьезный урон виноградарству. А в 1922 году колорадский жук нанес значительный вред урожаю картофеля (p. 326). Суровые зимы, неурожаи и следовавший за ними голод приводили к значительному росту смертности и уменьшению рождаемости. Изменились ли климатические условия проживания во Франции, например с XVII века в сравнении с настоящим временем? Сейчас во всем мире говорится о глобальном потеплении. Автор приводит следующий факт. 6 августа 1765 года в Париже был зарегистрирован температурный рекорд + 40. Этот рекорд впоследствии был побит только раз, в 1947 году, близкая температура была в 2017 году. Самый холодный день за время метеонаблюдений в Париже был 10 декабря 1879 года, тогда температура в Париже опустилась до 23,9 градусов ниже нуля, а 23 января 1795 года — температура была минус 23,5 градусов.
Автор делает попытку рассмотреть ментальность предков. Он отмечает, что предки боялись всего (p. 344): не только смерти, но и болезней, грозы, бродяг и иностранцев. Деревенские боялись города, а горожане деревни и леса. Предки боялись Бога, так же как и погоды, эпидемий, войн, голода. Последние воспринимались как наказание за грехи. Автор говорит о высокой детской смертности. Он сообщает, что почти треть детей не доживала до годовалого возраста на рубеже XVII–XVIII вв. Детская смертность пошла резко на убыль в результате вакцинации, проводившейся с 1880 года, и соблюдения норм гигиены. В былые времена бедные воспринимали несчастия, постигавшие их семьи (смерть близких, в том числе детей) как рок, фаталистически.
Подобную статистику (в частности, детскую смертность) можно проследить и по территории России, начиная со второй четверти — середины XVIII века, когда были введены метрические книги (по тем территориям, где эти источники сохранились). С еще большей точностью, начиная со второй половины XIX столетия по большинству регионов Российской Федерации.
Вызывает уважение энциклопедичность познаний автора: он цитирует классика французской литературы Расина и письма путешественников XVIII века. Но нет системности в описании образа жизни в различных регионах Франции. А ведь вероятно, что образ жизни и деятельности француза, живущего на юге Франции, отличается от француза, живущего вдали от моря, например, в районе Эльзаса и Лотарингии. Так же ритм и образ жизни у человека, постоянно живущего в крупном городе в середине XX века, и у жителя деревни. В сравнении временных периодов нет системности. Автор в одной главе сравнивает современность c XVII веком, в другой современность — с XIX столетием, в третьей современность — с началом XX века. Говоря об особенностях повседневной жизни французов в средние века, автор не всегда объясняет, о какой именно социальной категории (группе) идет речь.
Наконец, Бокарно приходит к заключению, что невозможно точно сказать, кто был счастливее — мы или наши предки.
Источник: М. М. Гершзон "БЫЛИ ЛИ НАШИ ПРЕДКИ СЧАСТЛИВЕЕ"? История. Научное обозрение OSTKRAFT № 6. М. : Модест Колеров, 2018.
ПРОШЛОЕ - РЯДОМ!
Найдём информацию о ваших предках!
Услуги составления родословной, генеалогического древа.
ЗАКАЗ РОДОСЛОВНОЙ на нашем сайте:
www.genealogyrus.ru/zakazat-issledovanie-rodoslovnoj
ЗАКАЗ РОДОСЛОВНОЙ в нашей группе ВК: https://vk.com/app5619682_-66437473
Или напишите нам: arhrodoslov@yandex.ru